Колотов А.А. Ангел-хранитель Мириам Хендерсон: «поток сознания» и повествовательная точка зрения в романе Дороти Ричардсон «Островерхие крыши» // Филологический сборник: Литературы Западной Европы — От эпохи Возрождения к XXI веку: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск: РИО КГПУ, 2002. – 200 с. – С.76-92 PDF-скан с разбивкой по страницам
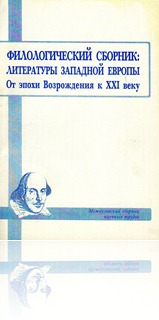 Своим творчеством Дороти Ричардсон, бесспорно, заслужила себе место в истории английской литературы. Вопрос только в том, где оно, это место: в специальном многостраничном разделе, посвященном ее творчеству, или же в скупых строках примечаний, набранных мелким шрифтом.
Своим творчеством Дороти Ричардсон, бесспорно, заслужила себе место в истории английской литературы. Вопрос только в том, где оно, это место: в специальном многостраничном разделе, посвященном ее творчеству, или же в скупых строках примечаний, набранных мелким шрифтом.
Подобная «вариативность» в оценках уже сама по себе достойна удивления. Но есть и еще один нюанс. Не так долго осталось ждать, как минует столетие с того дня, когда вышла из печати первая книга Ричардсон из ее тринадцатитомного романа «Паломничество» («Pilgrimage», 1915-1967). А ведь считается, что именно время расставляет все по местам: многие писатели, несмотря на хулу своих современников, в конце концов становились общепризнанными классиками – и, напротив, те, кто еще при жизни был возведен в чин живой литературной иконы, по прошествии лет становились почти неразличимыми под пылью забвения. Почему же в случае с Дороти Ричардсон время не сыграло свою роль беспристрастного судьи? Или столетие для этого автора – еще слишком малый срок для окончательной оценки?..
В 1976 году один из западных исследователей выделил целых восемь различных этапов в истории не слишком бурного критического изучения и читательского восприятия «Паломничества» [1]. Пусть исследователи в послевоенные годы и отказались от безусловно негативной оценки творчества Ричардсон, распространенной среди большинства ее критиков-современников («Мисс Ричардсон не без таланта, но это талант неврастении», – ядовито откликался один из рецензентов на выход в свет очередной книги «Паломничества»), однако, несмотря на все всплески и падения интереса к роману, преобладающим мнением вплоть до 90-х годов XX столетия являлось рассмотрение произведений Ричардсон как творчества преимущественно второстепенной писательницы, оказавшейся в тени таких своих современников, как Марсель Пруст, Джеймс Джойс и Вирджиния Вулф, ставших признанными классиками. Четче всего подобное мнение выразил Мелвин Фридман: «Единственный неподдельный интерес ее роман может вызвать только у историка литературы, страстно стремящегося точно датировать появление новых литературных методов. И Даты здесь явно в пользу Дороти Ричардсон, которая первая ввела технику потока сознания в Англии» [2].
В качестве недостатков романа исследователи отмерли и чрезмерную его затянутость, и рыхлость сюжета, и недостаточно интересный для читательского внимания характер Мириам Хендерсон, избранной Ричардсон на роль главной героини «Паломничества». Однако набравшая в последние годы силу волна феминистической критики подвергла кардинальной ревизии всю историю литературного процесса – и не мудрено, что Дороти Ричардсон выдвигается уже на авансцену модернистской литературы. Недостатки ее романа ныне оборачиваются несомненными достоинствами, которые не смогла оценить по достоинству предшествующая «маскулинная» критика [3].
Но если оставить в стороне вопрос о том, что происходило и происходит с творчеством Дороти Ричардсон, его «недооценка» или «переоценка», надо признать, что существует нечто, с чем согласны, пожалуй, все исследователи: подлинная новизна «Паломничества», ощущаемая уже в первой книге, заключается именно в избранной автором необычной форме повествования.
Рукопись своего первого романа Дороти Ричардсон завершила еще в 1913 году – но, посланная в издательство, она возвратилась с отказом. В итоге первая книга «Паломничества» вышла только в сентябре 1915 год под титулом «Островерхие крыши» («Pointed Roofs»). Во вступительном слове к первому изданию другой английский автор, Дж.Д. Бересфорд, прозорливо заявил, что роман Ричардсон не может быть поставлен в один ряд ни с современными, ни с классическими произведениями. По признанию Бересфорда (приложившего, кстати, немалое усилия для издания рукописи Ричардсон), для адекватного восприятия романа ему понадобилось три прочтения – и потому читатель должен внутренне быть готов к тому же. Отчего же могут потребоваться столь большие усилия? «Возможное непонимание произойдет не из-за напыщенной неясности стиля, но единственно из-за специфических отличий романа, которые, возможно, и знаменуют собой новую форму прозы» [4].
Ясно, что «специфические отличия романа» вызваны прежде всего тем методом повествования, который Дороти Ричардсон кладет в основу как «Островерхих крыш», так и последующих томов (или «глав», по определению самой писательницы) «Паломничества». Но новизна проявляется постепенно – по крайней мере, начало ее первого произведения выглядит вполне традиционно:
Miriam left the gaslit hall and went slowly upstairs. The March twilight lay upon the landings, but the staircase was almost dark. The top landing was quite dark and silent. There was no one about. It would be quiet in her room. She could sit by the fire and think things over until Eve and Harriett came back with the parcels. She would have time to think about the journey and decide what she was going to say to the Fraulein [5].
В этом первом абзаце нет решительно ничего такого, что можно было бы назвать «специфическими отличиями». Здесь нет той новизны, с которой уже мог столкнуться читатель, открывший, допустим, начальные страницы выщедшего в 1913 году первого тома «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста или «Портрета художника в юности» Джеймса Джойса, опубликованного в 1914 году. Перед нами – вполне традиционное повествование с ретроспективной точки зрения ведущего наблюдателя, который легко может угадывать и доводить до сведения читателя желания и помыслы Мириам Хендерсон, героини «Островерхих крыш». Но возвращаются сестры Мириам, Ева и Гарриет, и в их последующем диалоге мы можем уже уточнить позицию повествователя, вначале показавшегося нам всесведущим:
«Pater’s only just come in. I think things are pretty rotten», declared Harriett from the hearthrug.
«Isn’t it ghastly – for all of us?» Miriam felt treacherously outspoken. It was a relief to be going away.
She knew that this sense of relief made her able to speak. «It’s never knowing that’s so awful. Perhaps he’ll get some more money presently and things’ll go on again. Fancy mother having it always, ever since we were babies».
«Don’t, Mim».
«All right. I won’t tell you the words he said, how he put it about the difficulty of getting the money for my things».
«Don’t, Mim».
Miriam’s mint went back to the phrase and her mother’s agonised face. She felt utterly desolate in the warm room [6].
Даже по этому отрывку из диалога сестер мы можем заметить, что повествовательная точка зрения закреплена на одном персонаже – Мириам Хендерсон, и только ее мысли доступны читателю. Тем самым угол нашего восприятия всей сцены ограничен только единственным ракурсом – так, как она бы представала перед глазами героини. «Как бы» – поскольку повествование так и продолжает вестись от третьего лица, остается отстраненным. Но отстранение это по мере развития романа все больше и больше выглядит чистой условностью, фикцией – настолько тесно рассказчик связан с Мириам Хендерсон. Для него, кажется, не существует никаких преград в «чтении мыслей» героини – причем не только тогда, когда она находится в полностью бодрствующем состоянии, но и при том особом состоянии сознания, который характерен для пробуждения.
When Miriam woke the next morning she lay still with closed eyes. She had dreamed that she had been standing in a room in the German school and the staff had crowded round her, looking at her. They had dreadful eyes – eyes like the eyes of hostesses she remembered, eyes she had seen in trains and ‘buses, eyes from the old school. They came and stood and looked at her, and saw her as she was, without courage, without funds or good clothes or beauty, without charm or interest, without even the skill to play a part. They looked at her with loathing. «Board and lodging – privilege to attend Masters’ lectures and laundry (body-linen only)». That was all she had thought of and clutched at – all along, since first she read the Fraulein’s letter. Her keep and the chance of learning… and Germany – Germany, das deutsche Vaterland – Germany? All woods and mountains and tenderness – Hermann and Dorothea in the dusk of a happy village [7].
Мы действительно представляем себе движение сознания героини «Островерхих крыш»: от тех образов, которые остались с ней после ночного сна, до воспоминаний о том, как она впервые узнала о возможности жить, учить и учиться в немецкой школе, и тех ассоциаций, которые вызывает у нее образ Германии, das deutsche Vaterland. Хотя деятельность сознания, находящегося на грани сна и яви, и не приводит Мириам к включению «спонтанной памяти», как это происходит у Марселя в «Поисках утраченного времени» [8], тем не
менее Ричардсон прекрасно изображает ту спонтанность психической жизни, которая характерна для человека в подобном «промежуточном» состоянии. Спонтанность, нашедшую свое наиболее яркое проявление в следующем фрагменте романа:
It was a fool’s errand. . . . To undertake to go to the German school and teach . . . to be going there . . . with nothing to give. The moment would come when there would be a class sitting round a table waiting for her to speak. She imagined one of the rooms at the old school, full of scornful girls. . . . How was English taught? How did you begin? English grammar . . . in German? Her heart beat in her throat. She had never thought of that . . . the rules of English grammar? Parsing and analysis. . . . Anglo-Saxon prefixes and suffixes . . . gerundial infinitive. . . . It was too late to look anything up. Perhaps there would be a class to-morrow. . . . The German lessons atschool had been dreadfully good. . . . Fraulein’s grave face . . . her perfect knowledge of every rule . . . her clear explanations in English . . . her examples. . . . All these things were there, in English grammar. . . . And she had undertaken to teach them and could not even speak German.
Monsieur . . . had talked French all the time . . . dictees . . . lectures . . . Le Conscrit . . . Waterloo . . . La Maison Deserte . . . his careful voice reading on and on . . . until the room disappeared. . . . She must do that for her German girls. Read English to them and make them happy. . . . But first there must be verbs . . . there had been cahiers of them . . . first, second, third conjugation. . . . It was impudence, an impudent invasion . . . the dreadful clever, foreign school. . . . They would laugh at her. . . . She began to repeat the English alphabet. . . . She doubted whether, faced with a class, she could reach the end without a mistake. . . . She reached Z and went on to the parts of speech. [9].
Если понимать под «потоком сознания» показ в первую очередь алогичной, ассоциативной, спонтанной деятельности сознания, то перед нами – первый пример использования такого потока сознания в английской литературе. Не случайно, что сам термин «поток сознания», введенный в научный обиход в конце XIX века американским психологом Уильямом Джеймсом, применительно к литературе был впервые использован именно в статье о романах Дороти Ричардсон, написаний в 1918 году Мэй Синклер: «…здесь нет ни драмы, ни ситуации, ни сцены. Ничего не происходит. Просто течет и течет жизнь. Течет и течет поток сознания Мириам» [10].
Довольно скоро в критике появились утверждения, что поток сознания «как метод создания характера и интерпретации жизни был изобретен Дороти Ричардсон» [11]. Данное мнение устоялось, и в пятидесятые годы, когда настал черед переосмыслить и заново определить такое понятие, как «поток сознания в литературе», получило еще и дополнительное научное обоснование. Авторы трех наиболее влиятельных концепций «потока сознания» (Л. Боулинг, Р. Хамфри, М. Фридман) рассматривают метод Дороти Ричардсон и методы Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф, Уильяма Фолкнера как явления одного порядка [12]. Подобным же образом дело обстоит и в отечественном литературоведении [13].
Однако нетрудно заметить, что поток сознания в романе Дороти Ричардсон рождается в первую очередь из-за неуклонного следования автором выбранной с самого начала форме повествования и является вполне логичным следствием той последовательности, с которой автор воплощает в романе принцип показа событий с единственной точки зрения. Само имя, «Мириам Хендерсон», в сущности, является лишь обозначением границы, разделяющей «внешнее» и «внутреннее» – и на этой границе и закреплен «фокус наррации», который может то поворачиваться наружу для фиксирования внешних событий, то обращаться внутрь для изображения мыслей героини, демонстрируя тем самым ее поток сознания. (Отметим, что в данном случае повествовательная точка зрения, будучи прикрепленной к одному персонажу, имеет вполне четкие пространственные характеристики и из-за этого не может впрямую отобразить то условное «место», где она «находится», – вот почему так часто встречаются в «Островерхих крышах» отражения Мириам в зеркалах или оконных стеклах: а как еще дать читателю непосредственное изображение внешнего облика героини?)
Закрепленность повествовательной точки зрения за одним персонажем приводит к тому, что автор все время пытается убедить нас, что повествование ведется исключительно с позиции восприятия Мириам Хендерсон, что авторский голос – не более чем «объективация» голоса героини. Воспользовавшись терминологией Б.А. Успенского, можно, казалось бы, с уверенностью констатировать, что перед нами классический случай «субъективного» описания при отсутствии смены авторской позиции при повествовании и специальный случай «преобразования Inherzahlung, а именно когда местоимение первого лица заменяется некоторым собственным именем или описательным обозначением» [14]. В случае с «Островерхими крышами» местоимение первого лица, следовательно, заменяется именем главной героини. Таким образом, и фигура рассказчика, и повествовательная точка зрения полностью растворяются в Мириам Хендерсон.
Но, читая роман, трудно отделаться от мысли, что перед нами совсем не «растворение» повествователя в персонаже, а всего лишь искусная имитация такого растворения. Нарративная точка зрения маскируется под точку зрения героини – но, как и при всякой маскировке, из-под маски нет-нет да и проглянет настоящее лицо повествователя – или, точнее, то положение, которое он занимает в действительности. Это не повествование Мириам Хендерсон в третьем лице – это скорее повествование о Мириам Хендерсон с точки зрения того, кто, несмотря на легкость проникновения в сознание молодой девушки, все время чуть отстранен от нее, это рассказ от некоего ее «ангела хранителя», которому доступно все, что творится внутри Мириам, и то, что она воспринимает своими органами чувств, но также и то, что ускользает от нее в данный момент события. «With a frightened face Miriam crept back up the stairs» [14] , – сообщает нам повествователь, при этом непроизвольно рисуя нам выражение лица Мириам таким, каким оно видится со стороны. «As she flew upstairs for her music, saying, «I’m all right. I can do it all right», she was half-conscious that her provisional success with her class had very little to do with her bounding joy» [16], – читаем мы в четвертой главе «Островерхих крыш». Но если Мириам лишь наполовину сознает свой успех, кому тогда известно, что это осознание является сознанием лишь наполовину?
Разумеется, выбранные нами примеры можно трактовать как наглядную иллюстрацию той трудности, с которой сталкивается любой романист, решивший неуклонно провести через все произведение принцип показа событий с точки зрения всего лишь одного персонажа и избравший для этого традиционную ретроспективную форму повествования от третьего лица. Но роман Дороти Ричардсон все же особый случай. Она действительно стремится последовательно превратить голос, от лица которого ведется повествование, в простую условность, фикцию, низвести его до уровня чистой и неощущаемой формы. В этом и кроется главное отличие: Пруст передоверяет вести свой роман рассказчику Марселю, Джойс на протяжении всех эпизодов «Улисса» играет роль повествователя-Протея, повествователь у Вулф обозначает себя своей поэтичностью, а повествователь у Дороти Ричардсон стремится полностью раствориться в своей героине, исчезнуть с горизонта читательского восприятия. И нельзя сказать, что эта попытка завершается неудачей – скорее, наоборот, если судить по традиции восприятия романа Ричардсон со стороны исследователей: «Она сумела полностью исключить промежуточное присутствие автора, поместив все в сознание Мириам; и она добилась этого благодаря изумительному отождествлению своей позиции с позицией своего персонажа и не позволив ничему происходить помимо восприятия Мириам» [17]; «Мы остаемся с мыслями и впечатлениями Мириам (…) без автора, который объясняет, дополняет, излагает содержание сознания Мириам» [18]; «В ходе всего романа читатель воспринимает жизнь только через Мириам или как Мириам» [19]; «В общепринятом смысле в «Островерхих крышах»… есть только одна Мириам, которая живет, чувствует, реагирует на раздражители со стороны других и окружающего мира…» [20].
Однако, сравнивая «проникновение» в сознание персонажей при использовании традиционной формы повествования от третьего лица, которое мы наблюдаем, допустим, в первой главе «Улисса» («Телемак»), мы сразу же можем заметить кардинальное отличие:
Stephen bent forward and peered at the mirror held out to him, cleft by a crooked crack. Hair on end. As he and others see me. Who chose this face for me? This dogsbody to rid of vermin. It asks me too. [21]
Здесь, как и во всей первой главе «Улисса», позиция повествователя на первый взгляд мало чем отличается от позиции «ангела-хранителя» Мириам -ив том, и в другом случае сознание только одного персонажа является «раскрытой книгой» для нарратора. Но нельзя отделаться от мысли, что различие проявляется прежде всего в том, что если в «Островерхих крышах» эта «раскрытая книга» нам пересказывается, то в «Телемаке» она действительно цитируется – пусть и без всякого предупреждения, без всякой расстановки кавычек, но мы безошибочно определяем, что первое предложение приведенного выше абзаца принадлежит голосу повествователя, остальное же – непосредственно доведенные до нашего сведения мысли Стивена. Об этом сигнализирует нам и изменение синтаксической структуры предложений, и использование местоимения первого лица. Примерно таким же образом дело обстоит и с романами «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» Вирджинии Вулф, где автор использует форму несобственно прямой речи для передачи мыслей персонажей.
«К… R…» said the nursemaid, and Septimus heard her say «Kay Arr» close to his ear, deeply, softly, like a mellow organ, but with a roughness in her voice like a grasshopper’s, which rasped his spine deliciously and sent running up into his brain waves of sound which, concussing, broke. A marvelous discovery indeed – that the human voice in certain atmospheric conditions (for one must be scientific, above all scientific) can quicken trees into life! [22]
Опять, как и в приведенном выше отрывке из «Улисса», мы отчетливо ощущаем различие между точкой зрения повествователя и точкой зрения персонажа Септимуса Смита. И используемая Вулф форма повествования от третьего лица отнюдь не подрывает объективность процесса изображения работы сознания – или его «потока». Мы слышим и то, что на самом деле сказала няня («К… R…»), и то, как услышал ее Септимус («Kay Arr»), и те образы и мысли, которые рождают в его сознании ассоциации с услышанными словами.
Так ли обстоит дело в романе Дороти Ричардсон? В самом ли деле мы проникаем в сознание Мириам? Или просто идем следом за движением ее сознания – или, точнее, изложением ее сознания? Вспомним, к примеру? процитированный выше отрывок из диалога сестер. «Miriam’s mind went back to the phrase and her mother’s agonised face» – повествователь сообщает нам, куда обратились мысли Мириам – back to the phrase, – но саму эту фразу, которая, безусловно, осталась и до сих пор звучит в сознании героини, причиняя ей боль, мы так и не получаем – она теряется где-то на полпути между читателем и Мириам Хендерсон, натыкаясь на препятствие в виде ее «ангела хранителя».
Но если существует такое препятствие, тогда приходится признать, что непосредственное изображение потока сознания, «цитирование» его содержания является в романе Ричардсон не более чем условностью. А это, в свою очередь, означает, что «ангел-хранитель» мисс Хендерсон никогда не передает мысли Мириам впрямую, подобно тому как это происходит в первой главе «Улисса» или в романах «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк».
Таким образом подрывается объективность самого процесса изображения деятельности сознания персонажа. Несмотря на плавное «соскальзывание» Джойса и Вулф в сознание того или иного персонажа, мы всегда можем отличить голос, ведущий повествование, от других романных голосов, шумов и звуков. Повествователь, временно устраняясь со сцены, передает свой голос тому или иному действующему лицу, чтобы читатель получил представление о внутренней психической жизни героя, что называется, «из первых рук». Но в романе Дороти Ричардсон мы не ощущаем подобного «различения» голосов. Повествование ведется с одной точки зрения – и, безусловно, одним голосом. Но что это за голос? Кто говорит? И кого мы слышим?
«She… tried to find words for the quick youthfulness of those eyes», – читаем мы в четвертой главе «Островерхих крыш». Мириам, смотрящей на свое отражение, оказывается, еще лишь предстоит найти слова, которые уже найдены повествователем (the quick youthfulness). Мы снова ощущаем тот почти неуловимый разрыв, который присутствует между героиней и ее ангелом-хранителем, и снова в нас рождается сомнение по поводу того, кому в действительности принадлежит данная фраза.
Но на этой же странице романа можно обнаружить и другой пример: «She was, there, safely there – what a perfectly stupendous thing – «weird and stupendous» she told herself». Здесь тот редкий случай, когда наряду с голосом повествователя мы слышим и голос самой Мириам. И мы вдруг отчетливо видим то кардинальное несоответствие, которое лежит в основе всего повествования. Те слова, которые мы всегда воспринимаем как принадлежащие сознанию героини (what a perfectly stupendous thing) внезапно оказываются ничем иным, как пересказом ее мыслей, причем не вполне точным пересказом («weird and stupendous» she told herself»). И на наших глазах поток сознания Мириам обнажает свою подлинную принадлежность, превращаясь в поток сознания ее ангела-хранителя.
Но кто в таком случае является ее ангелом-хранителем? Кто способен выражать все ее мысли, чувства и впечатления? Кто хранит собой ее существование в образе литературного персонажа?
Конечно, не ангел-хранитель – скорее, это автор- хранитель Мириам Хендерсон.
В итоге получается совершенно парадоксальная вещь: несмотря на настойчивое стремление «растворить» повествователя в сознании героини, превратить нарративную дистанцию в чистую условность, именно автор, Дороти Ричардсон, постепенно выступает на первый план в этом романе.
«Есть нечто уникальное в ее желании заменить жизнь искусством», – замечает Леон Эдел, добавляя, что при жизни для сведений в справочник «Кто есть кто» Дороти Ричардсон не давала ни места, ни даты своего рождения – только список вышедших «глав» «Паломничества» [24]. На трудность в отделении Мириам Хендерсон от ее реального прототипа и автора, Дороти Ричардсон, указывают практически все исследователи творчества английской писательницы. К примеру, Н.П. Михальская, говоря о романе «Паломничество», особо подчеркивает, что «ее главная героиня Мириам – alter ago автора, его сюжет основан на фактах жизни самой Ричардсон» [25].
Но выясняется, что отождествление Мириам Хендерсон с Дороти Ричардсон происходит не только на биографическом уровне – оно заложено в саму природу романного повествования: и в «Островерхих крышах» в частности, и во всем «Паломничестве» в целом. Читая роман, мы так и не можем с достоверностью определить, кто говорит с нами. «Объективация» ли это голоса персонажа или голос близкого к нему повествователя, превращающего роман в одну из форм автобиографии? И, вспоминая этот самый первый пример использования потока сознания в английской литературе, мы поневоле вынуждены задаться вопросом: кому он принадлежит на самом деле: Мириам Хендерсон, героине романа «Островерхие крыши», или же самому повествователю, отчаянно пытающемуся сохранить свою бесплотность и безличность, но оказавшегося неспособным растворить в себе образ автора, образ самой Дороти Ричардсон, в страхе и смятении едущей в Ганновер преподавать английский немецким школьницам?..
Примечания
[1] Stenley, Thomas F. Dorothy Richardson. – Boston, 1976. – P. 37.
[2] Friedman, Melvin. Stream of Consciousness: a Study in Literary Method. New Haven, 1955. P. 179.
[3] «Причиной, побудившей Ричардсон создавать свой мегароман, послужила ее неудовлетворенность пространственными и временными ограничениями предшествующей романной традиции», т.е. неспособность романистов выразить «сложность реальности» (Felber, Lynette. Gender and Genre in Novel without End: The British Roman-Fleuve. Gainesvill, 1995. P. 76); «Повествовательная динамика тринадцати книг Ричардсон ниспровергает фаллоцентрический акцент на последовательно развивающийся сюжет… акцентируя скорее сам процесс, чем достижение цели» (Ibid., р. 78).
[4] Beresford J.D. Introduction // Richardson D. Pointed Roofs. London, 1915.- P. VI-VII.
[5] Richardson, Dorothy. Pilgrimage. Vol. 1. London, 1979. – P.-15.
[Из холла, где горел газовый свет, Мариам не спеша двинулась наверх. На лестничных площадках лежали мартовские сумерки, но сама лестница почти полностью была погружена во тьму. На самом верху было совершенно темно и тихо. Также тихо будет и в ее комнате. Она сможет сесть у огня, молчать и думать, думать – до тех пор, пока Ева и Гарриет не возвратятся со свертками. У нее хватит времени подумать о поездке и решить, что же все-таки она скажет Фройляйн.]
[6] Ibid., р. 17-18.
[ – Отец только что пришел. И дела, по-моему, идут совсем скверно, – объявила Гарриет от камина.
Разве это не ужасно – для всех нас? – Мириам чувствовала предательскую потребность выговориться. Облегчением будет уехать. Она знала, что именно это чувство облегчения и позволяло ей сейчас говорить. – Никогда ничего не знать толком – вот что ужасно. Может, он еще вдруг получит какие-то деньги, и все вернется на круги своя. Представляешь, мама всегда жила в таком состоянии, даже когда мы были еще совсем детьми.
– Не надо, Мим.
– Ладно. Не скажу, какие слова он говорил, как выкладывал, насколько трудно раздобыть денег мне на вещи.
– Не надо, Мим.
Сознание Мириам вернулось к той фразе и искаженному лицу матери. В этой теплой комнате она ощущала себя совершенно несчастной.]
[7] Ibid., р. 21.
[Проснувшись наутро, Мириам так и осталась лежать с закрытыми глазами. Ей приснилось, что она стоит в классе немецкой школы, а вокруг толпится персонал и глядит на нее. И у всех противные глаза – глаза тех хозяек, что она помнила, глаза, которые она видела в поездах и омнибусах, в своей старой школе. Они пришли, стоят и смотрят на нее, и видят ее такой, какова она есть, ни капли храбрости, ни гроша за душой, ни пышных нарядов, ни красивой внешности, ни шарма, ни изюминки, даже никакого умения притворяться. Они глядят на нее с отвращением. «Стол и жилье, привилегия посещать лекции преподавателей и стирка (только одежды)». Вот все, о чем она думала и за что ухватилась – все время с тех пор как впервые прочитала письмо Фройляйн. Содержание для нее и ее шанс на учебу… и Германия – Германия, das deutsche Vaterland – леса, горы и нежность – Герман и Доротея в сумерках счастливого селения.]
[8] «Паломничество» Ричардсон часто сравнивали с «Поисками утраченного времени» Пруста, однако заметим, что Ричардсон была незнакома с творчеством Пруста вплоть до декабря 1922 года, когда его романы начали издаваться на английском языке (перевод последней книги вышел в 1931 году).
[9] Richardson, Dorothy. Pilgrimage. Vol. 1. London, 1979. – P. 29.
[Бесплодная затея… Взять и отправиться в немецкую школу преподавать… поехать туда… а что она может дать? Ведь придет время, когда весь класс рассядется вокруг стола в ожидании ее слов. Она представила одну из комнат в своей старой школе, битком набитую высокомерными девицами… Как учить английскому? Как начать? Английская грамматика… По-немецки? Комок подкатил к горлу. Она никогда не задумывалась над этим… правила английской грамматики? Разбор, анализ… англо-саксонские приставки и суффиксы… инфинитив герундия… Слишком поздно сейчас искать что-нибудь об этом. Возможно, занятия начнутся уже завтра… Уроки немецкого в школе были ужасно хороши… Серьезное лицо Фройляйн… ее идеальное знание каждого правила… ее ясные объяснения на английском… ее примеры… И все это здесь, в английской грамматике… И она взялась преподавать, не умея даже говорить по-немецки.
Мсье… постоянно изъяснялся на французском… dictees… lectures… Le Conscrit… Waterloo… La Maison Deserte… его хорошо поставленный голос все звучал и звуча… пока комната не исчезла… То же самое она должна делать и для немок. Читать им по-английски и радовать их… Но вначале должны пойти глаголы… cahiers для них… первое, второе, третье спряжение… Наглое, бесцеремонное вторжение… в грозную, умную, иностранную школу… Они будут смеяться над ней… Она начала повторять английский алфавит… Она сомневалась, что, представ перед классом, сможет дойти до конца без ошибки… Дойдя до Z, она принялась за части речи.]
[10] Sinclair, May. The Novels of Dorothy Richardson [1918] //The Gender of Modernism: A Critical Anthology. 1990. P. 443.
[11] Drew, Elizabeth A. The Modern Novel: Some Aspects of Contemporary Fiction. New York, 1926. P. 256. Отметим, что сама писательница довольно резко высказывалась о наименовании того метода, честь создания которого ей приписывали некоторые критики: «Что я думаю о термине «Поток Сознания», которым в Англии обозначают творчество некоторых современных писателей? Вот что: в окружении полезных ярлычков, придуманных от безысходности литературной критикой, он стоит особняком по причине своей полнейшей имбицильности. Трансатлантическое усовершенствование – «Внутренний Монолог» – еще более неадекватен, чем любой другой ярлык на его месте, но в нем по крайней мере есть хоть какой-то смысл» (Richardson, Dorothy. Autobiographical Sketch // Authors Today and Yesterday. New York, 1933. – P. 562).
[12] См.: Bowling, Lawrence E. What the Stream of Consciousness Technique? // PMLA, LXV (June 1950). P. 333 – 345; Humphrey,
Robert. Stream of Consciousness in the Modern Novel. Berkeley, 1954; Friedman, Melvin. Stream of Consciousness: A Study of Literary Method. New Haven, London, 1955.
[13] «Из английских писателей первой этот способ изображения внутренней жизни человека [«поток сознания». – А.К.] применила Дороти Ричардсон в романе «Островерхие крыши» (1915), отражая в едином потоке все ощущения и субъективные ассоциации своей героини, главным образом, ради самого этого процесса» (Жантиева Д.Г. Джеймс Джойс. – М., 1967. – С. 63); «Предваряя Джойса и Вулф, Дороти Ричардсон первой использовала технику потока сознания». (Михальская Н.П. Дороти Ричардсон: к вопросу об истоках модернистского романа в Англии // Литература Великобритании в европейском культурном контексте. – Нижний Новгород, 2000. – С. 135.)
[14] Успенский Б.А. Поэтика композиции. – СПб., 2000. – С: 149 – 150. Можно воспользоваться и классификацией Ж. Женетта – в таком случае повествовательная точка зрения в «Островерхих крышах» попадет в разряд «фиксированной внутренней фокализации» (Женетт Ж. Фигуры III: Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. – М., 1998. – С. 205).
[15] Richardson, Dorothy. Pilgrimage. VoL 1. London 1979. – P. 25.
[16] Ibid., p. 55 – 56.
[17] Friedman, Melvin. Op. cit., l955. P. 179.
[18] Blake, Caesar R. Dorothy Richardson. Ann Arbor, 1960. P. 126.
[19] Stanley, Thomas F. Dorothy Richardson. Boston, 1979. P. 36.
[20] Jeffares, Norman. Joyce’s Precursors // James Joyce: The Artist and the Labyrinth. London, 1990. P. 285.
[21] Joyce, James. Ulysses. London, 1986. P. 6.
[«Стивен наклонился и глянул в подставленное зеркало, расколотое кривой трещиной. Волосы дыбом. Так взор его и прочих видит меня. Кто мне выбрал это лицо? Эту паршивую шкуру пса-бедолаги? Оно тоже спрашивает меня». (Джойс Д. Улисс: роман (части I и II). Т. 2. 1994. – С. 9). – Перевод В. Хинкиса и. С. Хоружего.]
[22] Woolf, Virginia. Mrs. Dalloway and Essays. Moscow, 1984. – P. 49.
[- K… P… – сказала няня, и Септимус услышал, как у самого уха его «Ка» и «Эр» она вывела низко, нежно, точно спелые органные ноты, но с хрипотцою, точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал к мозгу, и там они расплескались. Да, удивительное открытие – что человеческий голос в определенных атмосферных условиях (прежде всего надо рассуждать научно, только научно!) может пробуждать к жизни деревья! (Вулф В. Избранное. – М., 1989. – С. 39). -Перевод Е. Суриц).
[23] Richardson, Dorothy. Pilgrimage. Vol. 1. London, 1979. P. 52.
[24] Edel, Leon. The Modern Psychological Novel. New York, 1964. P. 158. Самое, пожалуй, обстоятельное исследование тесных параллелей в судьбах Дороти Ричардсон и Мириам Хендерсон можно найти в книге Fromm, Gloria G. Dorothy Richardson: A Biography. Urbana, 1977. (2 изд. – Athens 1994).
[25] Михальская Н.П. Цит. соч. – С. 135.